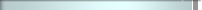ВО ВРЕМЕНА БУДДЫ
Исследуя жизнь Будды сложно получить, сколько бы то ни было достоверную информацию. Жизнь отца буддизма овеяна ореолом легенд и мифов. Поэтому, пожалуй, правильнее и интереснее уделять внимание не точным или, скорее, неточным датам, а попытаться представить себе то время, когда жил Будда, и понять, почему именно такое учение родилось именно там и тогда.
Дух того времени, когда жил Будда, был совершенно особым, а интеллектуальная жизнь отличалась ярким и неповторимым колоритом. Страна была охвачена «брожением умов» и интенсивными поисками истины. Этот период принято называть шраманским. Шраманами (от санскр. шрамаиа, с корнем «шрам» — «утруждаться, стараться») называли аскетов, искателей духовной истины, порвавших связи с мирским обществом, живущих милостыней и нередко странствующих. Шраманы объединялись вокруг учителей и наставников и образовывали некое подобие монашеских орденов. Все шраманские учения не были ортодоксально ведическими, т. е. не всегда признавали авторитет Вед — древних священных индийских текстов, и потому вызывали у брахманов настороженное, а часто и скептическое отношение.
Этот период в полной мере продемонстрировал ту парадоксальную закономерность истории, которая всем нам хорошо известна по расхожей фразе «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Брахманы и другие представители высших сословий — варн, желая создать идеальную организацию общества и разработав ее идеологию, вызвали настоящую лавину религиозно-аскетических течений, антибрахманских по своей идейной направленности. Чрезмерно усложненный и громоздкий ведийский ритуал, жертвоприношение животных, темный язык священных текстов, не всегда понятный даже самим жрецам-брахманам, наконец, привилегии брахманов и провозглашенные ими незыблемыми границы между варнами — все это не могло не породить самого настоящего нигилизма. Предельно схематизируя картину, можно сказать, что индийское общество оказалось расколотым на два оппозиционных лагеря: традиционалистов, поддерживающих брахманские установления, и «диссидентов», проповедующих новые учения. Последние, в свою очередь, раскололись на множество группировок, защищавших разнообразные доктрины, мнения, взгляды (если верить некоторым текстам, группы «инакомыслящих» исчислялись сотнями), в которых трудно было не запутаться.
.jpg)
Было еще одно немаловажное обстоятельство: на индийском духовном горизонте обозначились весьма серьезные проблемы, которые стали суровым испытанием жизненности древних традиций. Старые ведийские боги становились все более абстрактными и далеко не всегда «помогали» своим адептам разрешать насущные житейские проблемы, обманывая ожидания тех, кто приносил им щедрые жертвоприношения. Древние канонические тексты все чаще воспринимались как «шелуха душ древних мудрецов». Все больше осознавалась необходимость непосредственного переживания истины, и человек все чаще обращался к самому себе и исследовал себя, возможно, потому, что он достиг некоего предела в мифологическом познании мира. «Рядом с Брахманом, который царит в своем вечном покое, высоко вознесенный над судьбами человеческого мира, остается как единственно активная сила в великом деле освобождения — сам Человек, обладатель присущей ему силы и власти отвратиться от этого мира, от этого безнадежного состояния страдания», — писал С. Ф. Ольденбург.
Странствующие мудрецы стали привычной и неотъемлемой частью индийского пейзажа. Они соперничали на диспутах, оттачивали технику спора и защищали свои учения. Но что удивительно — им оказывали покровительство цари небольших индийских государств, среди которых выделялась Магадха, область, частично соответствующая современному Бихару. Один из самых выдающихся представителей Магадхской династии, царь по имени Бимбисара, мог не просто выслушивать часами речи мудрецов, но и сам активно помогал им. А учение Будды ему так понравилось, что царь, как уверяют авторы буддийских текстов, сразу же подарил ему сад. Не меньший интерес проявлял к искателям истины Прасенаджит, царь другого государства, Кошалы, а его супруга Малика даже построила для странствующих мудрецов специальный павильон и получала не меньшее удовольствие от присутствия на философских диспутах, чем европейские дамы Средневековья от рыцарских турниров.
В дошедших до нас текстах Будда неоднократно сетует на охватившую всех манию полемики. По свидетельству древнегреческого историка Страбона, индийские философы и в самом деле проводили время в постоянных диспутах. Об их изощренности можно судить хотя бы по некоторым эпитетам. Так, «расщепителями вс лоса» назывались утонченные аргументаторы, способные как обе сновать, так и опровергнуть любой тезис. Были еще «скользки угри», избегающие любого положительного ответа на любой вон рос и занимающие разные позиции в зависимости от ситуации. Вся эта пестрая картина умозрений, когда, виртуозно владея отточенной техникой спора, можно было все, что угодно, доказать и все, что угодно, опровергнуть, в конечном итоге не могла не подорвать доверие к любым знаниям и к разуму вообще.
Какие же темы всколыхнули тогдашнее индийское общество, обсуждались на диспутах и приковывали внимание даже царей? А вол повали их ни много ни мало мировоззренческие вопросы, актуальные для того времени проблемы высшего назначения человеческой жизни. Едва ли не главным среди них был следующий: зависит ли судьба человека от его собственных действий или сами эти действия определяются какими-то внешними, не зависящими от человека причинами? От ответа на этот вопрос зависел ответ и на следующий вопрос: нужно ли следовать ритуально-этической парадигме брахманизма или она в корне неверна?
Полемисты обсуждали и другие, самые разнообразные вопросы. Среди них выделялось несколько обязательных, без которых не обходился, пожалуй, ни один словесный турнир: вечен ли мир и Атман, безличный абсолют? Конечен ли этот мир в пространстве? Как соотносятся душа и тело? Продолжают ли совершенномудрые существа жить после смерти? Ответы на эти и подобные им вопросы были разными, и в зависимости от этого среди «инакомыслящих», не приемлющих брахманических ценностей, выделилось несколько основных направлений.
Первыми следует назвать аскетов, именуемых тапасичами (от санскр. тапас — «жар», «энергия»), которые объединялись в небольшие «ордена» под руководством какого-либо харизматического лидера. Другой весьма влиятельной религиозной общиной были адживики (от санскр. аджива — «образ жизни»). Их стиль жизни действительно отличатся экстравагантностью: они бродили по городам и весям нагишом, часто даже без набедренных повязок, не пользовались посудой, облизывали руки после еды и т. п. Кажется, именно адживики были теми «нагими мудрецами», с которыми вступил в беседу Александр Македонский и которые подняли против него мятеж. Третьим объединением были паривраджаки — пилигримы, собиравшиеся на сессии в период дождей, а в остальное время фупиами бродившие по северу Индии. Четвертую группу составили джайны, последователи Джипы Махавиры, Великого Героя-Победителя, «разорвавшие узы» этого мира. Это течение со временем выросло в третью по значимости религию Индии после индуизма и буддизма

Будда был одним из подобных странствующих мудрецов, проповедовавших свое учение. Его община стала пятой, как бы итоговой для этого периода. Шраманский период теперь принято исчислять по современной датировке его жизни и считать, что он занял примерно столетие, о конца VI-V вв. до н. э. до конца V-IV вв. до н. э. Первые индийские философы считаются его предшественниками или старшими современниками, а сам он, можно сказать, завершил шраманский период искания истины.
Итак, учение Будды было одним из многих религиозных течений Древней Индии. С самого начала оно попало в число антиведийских школ, частика. Но полной зависимости от Вед оно не могло избежать хотя бы потому, что зарождалось в оппозиции к ним, а также потому, что духовная жизнь древней Индии полностью основывалась на ведийских канонах. Едва ли современники воспринимали Будду и его учение как нечто из ряда вон выходящее, как крушение вековых устоев и революционный шаг в религиозном мышлении.
Открывая новые духовные горизонты, Будда оставался органически связанным с духовной традицией своей страны, и его учение прочно уходило корнями в индийскую почву. Ему даже не пришлось изобретать новую терминологию. Она была, что называется, под рукой — в богатейшем лексиконе священных текстов древней Индии: другое дело, что он наполнил старые термины новым содержанием и облек некоторые традиционные представления в более яркую и доступную многим форму. Тем не менее, в пестрой картине духовного брожения той поры он занял совершенно особое место. Из его мистического созерцания родилась религия, которой были суждены даже не века, а тысячелетия победоносного существования, причем не только в Индии, но и во всем мире.