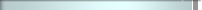ИЗУЧЕНИЕ БИОГРАФИИ БУДДЫ
Жизнеописание Будды построено по индийскому канону агиографии, как называются описания жизни и духовных подвигов богов и святых людей. Но это только внешняя, формальная сторона. Заложенный в ней смысл очень глубок, и открывается он не сразу. Разумеется, этот смысл воспринимался по-разному разными людьми в тот или иной период времени.
Современный человек увидит в биографии Будды совсем не то, что древний индийский монах-отшельник, современник вероучителя, средневековый китайский ученый или тибетский лама. Это отнюдь не означает, что нам, людям, живущим за много тысяч километров от Индии и более чем на две с половиной тысячи лет удаленным от периода жизни Будды, не дано постичь буддизм и тексты, связанные с ним.
Интересный пример собственного прочтения биографии Будды являет собой работа оригинального отечественного мыслителя Г. Гачева «Сопоставление восточной и западной символики, или Буддизм — как естествознание» (по поэме Асвагоши «Жизнь Будды»). По собственному признанию Г. Гачева, он «промедитировал это великое произведение» и «отчетливо почувствовал буддизм не просто как нравственный закон людям, но как космический закон всем существам, определенно упорядочивающий вселенную». Конечно, не все, подобно Гачеву, могут позволить себе роскошь неспешного прочтения этой книги и получить ключ к пониманию буддизма, но каждый может найти в этой религии что-то важное для себя. Так, К. Г. Юнг признавался, что его «путь постижения мира буддийской мысли лежал не в направлении изучения истории религии или философии. К знакомству со взглядами и методами Будды, этого великого учителя человечества, побуждаемого чувством сострадания к людям, обреченным на старость, болезни и смерть, привел меня профессиональный интерес врача, долг которого — облегчить страдания человека».
Так что с биографией Будды стоит познакомиться повнимательнее и постараться увидеть, как за ее поэтической, романтической формой, созданной и отточенной его последователями, скрываются важные доктринальные и психологические идеи этой самой древней мировой религии. Рассмотрим лишь один пример, связанный с ключевым понятием «срединного пути».
Жизнь Будды до ухода из дома — это прекрасное остановленное мгновение, которое, как кажется, длилось бы вечно вопреки всему, если бы не решение царевича уйти из дома и прекратить этот нескончаемый праздник, который «всегда с тобой». Зачем понадобился авторам жизнеописания утопичный мир юности царевича Сиддхартхи? Тем более что этот фрагмент биографии появился сравнительно поздно: ее ранние варианты, довольно бессвязные, начинаются с того момента, когда царевич достиг просветления и начал проповедовать, сделав, говоря современным языком, карьеру духовного учителя, проповедника, великого йога и т. п., что в условиях Индии того времени не было явлением уникальным. Ничего сверхъестественного, необычного, божественного в его биографии поначалу не было. Более того, в одном из текстов упоминается, что его отец сам обрабатывал землю. Таким образом, если докапываться до «исторической правды», то можно усомниться и в том, что Сиддхартха был отпрыском богатого царского рода.

Но безоблачный мир юности царевича, похожий на райский, был совершено необходим авторам его поздних биографий прежде всего для того, чтобы объяснить его потрясение от неожиданных встреч с больным, старцем и покойником и показать, как царевич ответил на этот вызов жизни. Живи он обычной жизнью рядового человека, едва ли такие естественные вещи, как болезнь, старость и смерть, произвели бы на него столь сокрушительное впечатление, вызвали такое смятение в душе и так перевернули бы его жизнь.
Но это еще не все. Детали его безоблачной домашней жизни описываются с явным смакованием. Почему? Не задавались ли составители биографии Будды целью показать таким образом всю полноту земного существования человека, все возможные радости его бытия — в полном соответствии с общеиндийским представлением о ценностях жизни? Ведь только полностью исчерпав мирской опыт и, можно сказать, предельно им насытившись, Будда оставил мир и ушел в лес, к аскетам. Устами Ашвагхоши он говорит:
Я совсем не безучастен к красоте, Человеческих восторгов знаю власть, Но на всем измены вижу я печать, Оттого в тяжелом сердце эта грусть. Если б это достоверно длилось так, Упивался бы любовию и я, Не узнал бы пресыщенье и печаль...
Индийцам это было понятно. По предписаниям индуизма, главной индийской религии, каждому «дважды рожденному», т. е. людям высших сословий, надлежало за свою жизнь пройти четыре полосы, или стадии: ученика, домохозяина, отшельника и аскета-сттиясииа, оставившего мирскую жизнь. Иными словами, уход в аскеты был возможен только после исполнения человеком своего религиозного и социального долга, т. е. после создания семьи, рождения детей и внуков, накопления богатства и т. п., хотя бывали и исключения.
Индийские мыслители не без основания полагали, что человеку насытившемуся всеми земными радостями, психологически легче отказаться от них и перейти к противоположному состоянию, аскетизму. Буддийские авторы с недоверием относились к тем искателям истины, которые до вступления на стезю отшельничества имели низкий социальный статус и влачили жалкое существование. И отречение носило ощутимый мирской привкус, и в их показном аскетизме, как правило, было больше жажды самоутверждения и желания повысить свой престиж, чем иных, истинно религиозных мотивов. Совсем иначе обстоит дело у царевича Сиддхартхи. Он не согласен с порядком вещей в мире, он не может примириться с бренностью человека. Вот что послужило отправной точкой его религиозных исканий.

Уйдя в аскеты, царевич попадает в общество отшельников — мир, живущий по своим собственным законам. Индийский аскетизм, который был и остается ярким элементом народной религии, а часто и основной практикой, поражает изощренными формами истязания плоти — вплоть до самоумерщвления. Обычным делом, например, было стоять между горящими кострами под палящим солнцем, находящимся в зените. В арсенале шраманов и брахманов было много приемов суровой аскезы, и они состязались друг с другом в развитии способностей не видеть, не слышать, не чувствовать и т. п. Аскеты, жестоко умерщвляющие свою плоть, были едва ли не главными героями того времени, и не случайно двоюродный брат Будды, Дэвадатта, первый буддийский «диссидент», призывал к еще большему ужесточению аскезы, чем предлагали общепринятые нормы.
Однако, пойдя этим путем, Будда не испытал удовлетворения. Напротив, он пришел к твердому убеждению, что измученная плоть может вызвать только болезненное состояние и не способствует открытию истины. И он отказался от дальнейших аскетических подвигов, справедливо полагая, что гораздо важнее гармония души и тела. Испытав на собственном опыте крайности и мирских утех, и аскетических тягот, он в конце концов открыл собственный «срединный путь». Первыми словами его первой проповеди, произнесенной перед бывшими товарищами по аскезе, были следующие: «Есть две крайности, о монахи, которым не должен следовать тот, кто ушел из мира. Какие это крайности? Одна — практика, основанная на привязанности к объектам этого мира, особенно на чувственной привязанности. Это путь низкий, варварский, недостойный, не ведущий к благу, обывательский. Другая — практика самоистязания, мучительная, недостойная и не ведущая к благу. Но есть и срединный путь, о монахи... Тот путь, который открывает глаза, способствует пониманию, ведет к умиротворенности, к высшей мудрости, к полному просветлению, к нирване».
Этот путь был выстрадан собственным мучительным опытом Будды. В одном из текстов Будда рассуждает о тех, «кто становится на стезю религиозного служения», когда убеждается в истинности исповедуемой доктрины, либо следуя авторитету Вед, либо доверяя логике или интуиции. Но есть и другой путь: встать «на стезю религиозного служения... только посредством собственного прозрения учения, среди других учений ранее не известного», т. е. открыть его собственным опытом без опоры на авторитет, мнения или знания других. Жизнеописания Будды убеждают, что он выбрал именно этот путь духовного эксперимента.
Так вполне убедительно авторы биографии вероучителя продемонстрировали не только особенности буддийского пути, но и показали важный принцип раннего буддизма, согласно которому любое суждение о реальности, и прежде всего о реальности высшего порядка, должно быть основано только на личном опыте. И сам Будда в своих многочисленных проповедях говорил только о том, что пережил сам — в нынешнем или прошлых рождениях.

Ну а что нам, современным людям, может дать эта легенда? Нынешний Далай-лама XIV не раз говорил, что история жизни Будды имеет для нас огромное значение: «Она наглядно демонстрирует те великие возможности и свойства, которые заключены в человеческой жизни». На мой взгляд, обстоятельства, которые привели к полному пробуждению Будды, могут служить по-настоящему вдохновляющим примером для его последователей. Если кратко, то своей жизнью он говорит нам следующее: «Вот путь, по которому вы должны идти в своих духовных исканиях. Вы должны понимать, что достижение пробуждения — нелегкая задача. Оно требует времени, воли и настойчивости».
В самом деле, жизнеописание Будды призвано выразить не столько биографию царевича Гаутамы, сколько показать его как носителя определенного сверхличного жизнепонимания. Вне всякого сомнения, главные вопросы, поставленные его жизнью, находились в центре идейных поисков и борьбы мнений не только его времени; они остаются актуальными во все времена.
Возвестив о новом идеале духовного освобождения от тягот бренного мира, Будда остался человеком среди людей. Сила его воздействия на других определялась, может быть, даже не столько его идеями — мы убедились, что они лежали в русле индийских традиций, — сколько всем его жизненным примером. Последующая судьба Будды удивительна. В течение долгих веков его почитают во многих странах Азии. Его образ в качестве святого проник также в христианство, ислам, зороастризм, манихейство. Под именем Иоасафа, царевича индийского, он был известен на Руси с XVI в. День его памяти православная церковь отмечает вместе с памятью преподобного Варлаама.